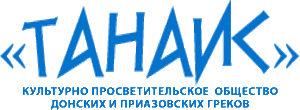История репрессий протии греков 1920-1950 гг. Воспоминания. Составитель И. Джуха
- Иван Джуха. Это было на моей памяти…… 5
- Часть 1. Раскулачивание и кулацкая ссылка 1930-х гг. 10
- Аврамов Иван Юрьевич. 11
- Аврамов Юрий Степанович. 12
- Андреади Николай Фёдорович. 19
- Влондис-Дьяков Павел Георгиевич. 22
- Кичик Анастас Георгиевич. 24
- Лефтеренко Екатерина Фёдоровна. 30
- Макропуло Валентин Георгиевич. 33
- Пирго Надежда Николаевна. 37
- Самохина Вера Михайловна. 42
- Солодова Лариса Христофоровна. 47
- Спатиос Василий. 54
- Темир Степан Константинович. 55
- Фатехи Диана Ивановна. 60
- Харабадот Римма Семёновна. 61
- Шашкина Галина Гавриловна. 63
- Неизвесный автор. 65
- Часть 2. Греческая операция НКВД 1937-1938 гг. 67
- Анастасиади Софья Плутарховна. 68
- Борисова Людмила Владимировна. 69
- Бржезицкая Надежда Афанасьевна. 71
- Васильева Харитина Панайотовна. 72
- Вдовиченко Мария Дмитриевна. 74
- Грамматикопулос Василиос Сократович. 77
- Делибораниди Василий Константинович. 80
- Димитриади Игнат Элевтерович. 82
- Евстафиади Георгий Васильевич. 94
- Захариас Георгос. 97
- Золото Надежда Дмитриевна. 99
- Иоаниди Галина Ивановна. 99
- Иосифиди Ирина Юрьевна. 101
- Исакиди Михаил Кузьмич. 103
- Калпиди Иван Спиридонович. 108
- Каралефтерова Мария Георгиевна. 109
- Кардаш Полина Михайловна. 111
- Кесисов Яннис Иорданович. 113
- Кичик Анастас Георгиевич. 113
- Коимшиди Феофилакт Мильтиадович. 118
- Костаки Георгий Дионисович. 136
- Кузьминская Елизавета Григорьевна. 142
- Лазариди Георгий Спиридонович. 148
- Левентис Георгий Максимович. 149
- Лещенко Мария Нестеровна. 176
- Линардато Павел Спиридонович. 177
- Мавридис Христофор Николаевич. 178
- Макмак Николай Иванович. 179
- Маламатиди Стилиан Николаевич. 181
- Малич Михаил Александрович. 235
- Малпаях Валентина Ивановна. 237
- Манидаки Владимир Иванович. 238
- Маруфиди Клеопатра Адамовна. 263
- Мултых Василий Константинович (отец Василий) 266
- Муратиду Валентина Дмитриевна. 276
- Оганджанянц Вячеслав Аршакович. 279
- Панайотиди Григорий Панайотович. 281
- Пилипенко Раиса Ивановна. 286
- Пиперопуло Надежда Сергеевна. 288
- Руденко Евгения Спиридоновна. 290
- Рыжкова Виктория Ивановна. 292
- Садах Евдокия Лазаревна. 295
- Стасинопуло Юнона Георгиевна. 299
- Татенко Софья Фёдоровна. 301
- Темир Степан Константинович. 305
- Фонотова Ирина Георгиевна. 306
- Франкс Бронислав Петрович. 308
- Ходеева Вера Дмитриевна. 309
- Цуцарина Нити Ивановна. 311
- Чера Павел Антонович. 312
- Эрмиди Николай Иванович. 315
- Янници Феодора. 317
- Часть 3. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 318
- Аврамов Анатолий Георгиевич. 320
- Ангелиди Павел Константинович. 321
- Георгиев Константин Иванович. 323
- Котенжи Юлиан Васильевич. 325
- Ксанфомалити Леонид Васильевич. 329
- Ксинтарис Василий Николаевич. 332
- Папалазариди Николай Константинович. 340
- Шашкина Клара Степановна. 344
- Часть 4. Депортации 1940-х гг. 349
- Аврамидис Георгий Иванович. 351
- Андреади Константин Николаевич. 353
- Андреади Николай Фёдорович. 356
- Болоцкая Фроскита Панайотовна. 372
- Бумбуридис Полихрон Петрович. 374
- Бушнева Таисия Стыльяновна. 384
- Василиади Панаила Александровна. 386
- Веретнова Алла Марковна. 387
- Веснин Алексей Леонтьевич. 388
- Врациди Николай Кирьякович. 390
- Георгиади Вера Ильинична. 392
- Гирихиди Пантелей Матвеевич. 394
- Граматикопулос Василис Сократович. 402
- Грамматикопуло Панайот Павлович. 404
- Дальян Иван Борисович. 413
- Игнатьева Магдалина Степановна. 415
- Иордани Элевтерий Христофорович. 416
- Келесиди Демосфен Панаётович. 417
- Кердемелиди Кирьяки Григорьевна. 420
- Кирьяков Григорий Митрофанович. 422
- Кочелиди Симела Кириаковна. 423
- Лоиз Надежда Емельяновна. 425
- Марантиди Василий Георгиевич. 427
- Марковцева София Ивановна. 432
- Махариди Мария Панайотовна. 433
- Попандопуло Илья Дмитриевич. 439
- Попандопуло Павел Феофанович. 442
- Попандопуло Юрий Иванович. 443
- Пуланджакли Христофор Иванович. 445
- Самохина Вера Михайловна. 456
- Сейтаниди Вера Леонидовна. 459
- Симфоров Дмитрий Агапьевич. 466
- Синегуб Галина Антоновна. 474
- Хапсалис Антон Ставрович. 476
- Шаинова Мирофора Леонтьевна. 478
История репрессий против греков в СССР. Воспоминания.
И мои воспоминания пусть вольются в огромный, неиссякаемый океан памяти
А. Кичик
Иван Джуха. Это было на моей памяти…
При чтении даже самого высокохудожественного литературного произведения, читателя часто не покидает ощущение, что герой не совсем «настоящий». На страницах этой книги перед читателем предстанут самые, что ни есть реальные персонажи. Не будет большой натяжкой назвать их героями своего времени — как по традиции именуют не только литературных персонажей, но и тех, на чью долю выпали испытания, проверявшие на прочность их самих и самое государство. Большинству авторов данного сборника довелось быть современниками и участниками подобных испытаний. Все они могут повторить слова, вынесенные в заголовок.
…Мемуары, как документальный жанр, были востребованы всегда. Воспоминания, которые А. Пушкин назвал «самой сильной способностью души нашей», — естественный выход мыслям о прошлом. Они и сегодня остаются актуальными для познания прошлого. Ни огромное количество документальных фильмов, ни относительная открытость и доступность архивов, ни свободная пресса не могут составить конкуренции мемуарному жанру.
Интерес к мемуарам о сталинском периоде в СССР объясним. Могучий пласт истории советского государства и по сей день содержит массу тёмных страниц, вызывает множество вопросов.
Все значимые эпохи в истории нашей страны оставили в памяти их современников «рубцы» и «узелки», не позволяющие забыть происходившее десятки лет. Таковы особенности человеческой памяти. Она постоянно возвращает нас в прошлое, не позволяя стереться, пока жив человек, значимым страницам его биографии.
На глобальном историческом фоне у каждого народа имеются свои — незначительные, в сравнении с крупными историческими событиями, но очень значимые для него эпохи. Эпохи, которые нередко меняли вектор развития целого этноса. У греческого народа Советского Союза было несколько таких эпох. Все они уместились в два десятилетия: раскулачивание с коллективизацией (начало 1930-х гг.), «Большой террор» (1937-1938 гг.), Великая Отечественная война (1941-1945 гг.) и депортации (1940-е гг.). Случившееся с греками в этот отрезок не могло не оставить узелков в их памяти и рубцов в их душах. Едва ли не каждая греческая семья понесла в эти десятилетия свои потери.
Жанр воспоминаний — самый субъективный в литературе. Этим он и прекрасен. В отличие от архивных документов, сухо и беспристрастно свидетельствующих о прошедших событиях, личные воспоминания наполняют прошлое живыми людьми, их переживаниями и оценками. Благодаря чему прошлое предстаёт перед нами в «очеловеченном» виде.
Несмотря на сугубо личную тематику, содержащуюся в мемуарах, порой только из них можно почерпнуть свидетельства большого исторического значения. Субъективизм не умаляет достоинств воспоминаний. А при гораздо меньшей изученности темы репрессий (в сравнении, например, с Великой Отечественной войной), такие свидетельства служат важными альтернативными источниками информации.
Избирательность человеческой памяти (запоминается то, что было значимым для автора) — простительный минус, не перечёркивающий достоверности общей картины. Когда при описании одного и того же события у разных людей встречаются одни и те же интонации и оценки, это и есть свидетельство достоверности картины в целом.
Существует ещё одно важное обстоятельство, помогающее воспринимать воспоминания как важнейший и, что существенно, — объективный документ эпохи. Десятилетия, отделяющие мемуариста от пережитого, освобождают его от давления прошлого, от излишних эмоций, снижают накал страстей, — как это неизбежно бывает при рассказе непосредственно после самого события. Время позволяет осмыслить прошлое более спокойно, дать ему более взвешенную оценку с позиций своего личного последующего опыта и с учётом последствий описываемых событий.
В отличие от художественной прозы в воспоминаниях современников «о времени и о себе» перед читателем предстаёт живой свидетель. Даже, если что-то в его рассказе приукрашено, или наоборот, — сгущены краски, такой рассказ, тем не менее, — самая правдивая картина прошлого. Ибо за эмоциональностью повествования предстают страхи и радости, царившие в описываемую эпоху, чаяния и мысли живших в то время людей. Это и даёт нам право заявить о мемуарах, лишённых какого бы то ни было политического заказа и написанных без оглядки на цензора, как о самых главных документах эпохи.
Каждая персональная история обнажает нечто большее, то, что шире частного случая. Сугубо индивидуальное, личное, приобретает иное смысловое звучание, и читатель знакомится уже не с отдельной судьбой и даже не с жизнью конкретного этноса, а видит картину жизни огромной страны.
Помимо весьма детального описания отдельных событий, мемуары личного характера весьма ценны содержащимися в них душевными переживаниями авторов. Это помогает нам понять атмосферу, царившую в стране, а также состояние самого человека, столкнувшегося с карательной советской машиной. Даже упомянутые вскользь какие-то бытовые детали, обстоятельства — богатейший материал и для профессионального историка, и для людей, интересующихся историей своей страны.
Воспоминания, собранные в настоящем сборнике, слишком разнятся по объему. Он варьирует от конспективного отражения отдельного факта до подробного, многостраничного описания конкретной судьбы. Как правило, большие тексты выделяются ещё и масштабом отражённых в них событий. От кратких, схематичных текстов они отличаются масштабом отражённых в них событий. При этом, обобщённо отражая историческую действительность, в которой ему пришлось жить, автор обозначает свою позицию о причинах репрессий, заполняет своё повествование характеристиками людей, с кем ему приходилось сталкиваться в определённых обстоятельствах.
Впрочем, анализ общей ситуации в собранных воспоминаниях встречается редко. Такой подход свойственен в основном людям, имевшим определённый социальный статус в описываемую эпоху, либо достигшие его к моменту написания воспоминаний. Как правило, это люди с высшим образованием.
Большинство воспоминаний — рассказы об определённом отрезке жизни отдельного человека или отдельной семьи. Их авторы, как правило, это люди, род деятельности которых далёк от литературной.
Собирая материал для книги, я практически не сталкивался с отказом людей поделиться рассказами об обстоятельствах их жизни. Несомненным достоинством надо признать, что большинство мемуаров принадлежит непосредственным участникам событий. Вместе с тем, хотелось бы отметить, что этой категории авторов воспоминания давались с наибольшими моральными издержками.
Перед составителем, помимо множества конкретных задач (желание отразить все виды репрессий, их географию и т. д.), стояла ещё одна. Мне хотелось получить свидетельства об одном и том же событии от представителей разных поколений одной и той же семьи. Полагаю, такой методический приём весьма интересен. Возможно, он, прежде всего, интересен даже не историкам, а психологам, которым предоставляется возможность проанализировать, как преломляется в сознании и памяти человека услышанный им рассказ о репрессиях от представителей старшего поколения.
Авторы сборника представляют три поколения:
- Жертвы и очевидцы репрессий. Описываемые события они пережили сами, одни в — детском, другие — в зрелом возрасте.
- Дети жертв и очевидцев репрессий, испытавшие лишь последствия репрессий (пребывание на спецпоселении, жизнь с клеймом «сын (дочь) врага народа»). Строго говоря, рассказы детей и внуков — уже не воспоминания, а пересказы услышанного.
- Внуки (редко — правнуки) жертв и очевидцев репрессий, не испытавшие репрессий ни в каком виде, но слышавшие о них от старших. Причём, порой и те, кто рассказывал, тоже не являлись «первоисточниками», и получили информацию от своих родителей или старших родственников.
Первый вывод, который можно сделать, ознакомившись с «разнопоколенческими» текстами, таков: чем дальше от первоисточника (от жертвы репрессий или очевидца событий), тем больше в рассказах вымысла, поздних вставок, а то и просто фантазий.
Вполне естественно, что наименее мифологизированы воспоминания самих репрессированных. В первую очередь это относится к узникам ГУЛАГа. Беседуя с ними, я обратил внимание на такое крайне важное для исследователя обстоятельство: с пережившими сталинские лагеря или депортации можно разговаривать на любые темы. Совершенно спокойно им можно задавать самые разные, порой — неприятные вопросы – и при этом получить на них исчерпывающие ответы. Объясняю это так: интервьюерам незачем было что-то выдумывать. Реальность была богаче фантазии.
Степень достоверности свидетельств детей и внуков репрессированных, или тех, кто пережил репрессий в детском возрасте, безусловно, ниже. В нарисованной ими картине не просто сгущены краски, но обнаруживается целый ряд мифологем, закрепившихся в массовом сознании греков.
Вот некоторые из них, встречающиеся в воспоминаниях и рассказах об эпохе «Большого террора» и проведённой в его рамках греческой операции НКВД:
- греков расстреливали сразу после ареста без предъявления им каких бы то ни было обвинений;
- во всех следственных делах слово «грек» подчеркнуто красным карандашом;
- трупы расстрелянных сбрасывали в море (в приморских городах) или в реки;
- о непричастности Сталина к репрессиям;
- в первую очередь арестовывали интеллигенцию.
А вот мифологемы из депортационной эпохи:
- огромное число умерших при этапировании;
- о количестве «пассажиров» в вагонах;
- полное отсутствие еды в пути.
Обращает на себя внимание и более высокая степень эмоциональной окраски в рассказах нерепрессированного поколения. Очевидно, это объясняется особенностями детского восприятия тяжёлого с психической точки зрения события. Ведь нередко это был прямой удар по ребёнку и всей его последующей жизни, которая проходила под знаком трагической судьбы его родителей или старших братьев и сестёр…
Тема репрессий в детских судьбах, о том, как государственное насилие отразилось на психике ребёнка, очевидно, ещё ждёт своих исследователей. Основой для таких исследований как раз и могут послужить рассказы детей, современников репрессий.
Содержащаяся в воспоминаниях большинства рассказчиков информация, характер подачи фактов и оценки достаточно типичны. Конечно, в основном людьми зафиксированы события повседневной жизни. Например, главные темы при описании массовых арестов в 1937-1938 гг. у всех примерно одинаковы:
- ночной арест с обыском;
- пребывание в тюрьме и допросы;
- этапирование в лагерь;
- условия жизни и работы в лагере;
- освобождение из лагеря.
При описании депортаций:
- ночной приход военных и сообщение о необходимости покинуть квартиру или дом;
- спешные, панические сборы;
- посадка в машину, а затем — в вагоны;
- этапирование к месту спецпоселения;
- условия жизни и работы на спецпоселении.
Сборник состоит из 4 разделов:
- Раскулачивание и кулацкая ссылка 1929-1935 гг.
- Греческая операция НКВД 1937-1938 гг.
- Великая Отечественная война 1941-1945 гг.
- Депортации 1940-х гг.
Разделы неравноценны по объему и количеству содержавшихся в них документов и лишь примерно отражают соотношение между жертвами четырёх видов репрессий. (Больше всего греков пострадало от массовых депортаций, на втором месте — жертвы греческой операции НКВД 1937-1938 гг.).
Разделение текстов по разделам в некоторой степени носит условный характер. Нередко одна и та же семья подвергалась нескольким видам репрессий. Поэтому в воспоминаниях, к примеру, из четвёртого раздела, посвящённого депортациям, присутствуют сюжеты о раскулачивании или греческой операции 1937-1938 гг. И наоборот.
Всего в сборнике собрано 111 свидетельств.
- Первый раздел включает — 16 воспоминаний,
- второй раздел — 52,
- третий раздел — 8,
- четвёртый раздел — 35.
«Происхождение» текстов различно.
Первую группу составляют тексты, написание которых инициировано составителем. Таковых в сборнике большинства. Их в свою очередь можно разделить на две категории: одни написаны самими авторами специально для настоящего сборника, другие — самим составителем со слов рассказчиков (как правило, это расшифрованные и переложенные на бумагу видео- и аудизаписи моих бесед с источниками).
Независимо от происхождения тексты этой категории в той или иной степени подверглись редакционной обработке. При этом во всех случаях, – если они были в авторском тексте, — сохранены авторские заголовки и подзаголовки.
Более серьёзной обработки потребовали тексты, появившиеся в результате расшифровки ауди- и видеозаписей. Разговорная речь при перенесении на бумагу систематизирована, в частности, одним из результатов обработки стала расстановка событий в хронологической последовательности, которая не всегда соблюдалась рассказчиками в устной речи. Надо отметить, что воспоминания, полученные в ходе бесед, как правило, более полные, в них меньше неясностей. Перед интервью я всякий раз разрабатывал план беседы, заранее готовил вопросы и темы, но, что самое важное, — я имел возможность направлять ход беседы, уточнять, переспрашивать, возвращаться в случае необходимости к уже рассказанному.
Несмотря на высокую степень литературной обработки устных рассказов, я старался максимально сохранить стиль рассказчика.
Вторая группа публикуемых мемуаров хранилась в семейных архивах. К их появлению составитель не имеет никакого отношения. Они переданы мне потомками репрессированных.
Третья часть мемуарных свидетельств обнаружена в архивах международного общества «Мемориал», куда люди, откликаясь на призывы его сотрудников, направили свои рассказы о пережитом.
Четвёртая часть — перепечатка уже опубликованных мемуаров. Они публикуются практически в неизмененном виде. (Допускалась лишь пунктуационная правка). За исключением воспоминаний этой группы (мемуары П. Бумбуриди, П. Гирихиди, Г. Костаки, Г. Левентиса, В. Манидаки, В. Мултых), все остальные тексты не предназначались для широкой публикации и создавались лишь до узкого круга родных и близких.
Собирая материал для сборника, я интересовался мотивацией, заставившей авторов взяться за перо и высказаться «о времени и о себе». Как показали беседы со многими из них (или их потомками, знавшими о мотивах, подвигнувших их старших родственников на написание мемуаров) авторами двигали две основные причины. Первая — желание на склоне лет переосмыслить пережитое, рассказать об обстоятельствах своей жизни, имевших для автора решающее или очень важное значение. Многие рассматривали это как обязанность, считая, что события, о которых они рассказали, во многом предопределили их дальнейшую судьбу.
Вторая причина — это положительная реакция на просьбы родственников поделиться рассказами о прошлом.
В сборнике содержатся несколько уникальных воспоминаний «с противоположной стороны». Таковы мемуары В. Ксинтариса, работавшего с конца 1930-х гг. в системе НКВД (некоторое время — даже начальником одного из лаготделений Норильлага). В разделе о депортациях представлен рассказ А. Веснина (единственного не грека из числа авторов), солдата войск НКВД, участвовавшего в депортации греков из Крыма в 1944 году.
По форме практически все тексты — трагические повествования. Лишь изредка в качестве формы авторы избрали иронию или политический памфлет (В. Грамматикопулос, П. Гирихиди).
Некоторые мемуары, оставаясь рассказом о жизни, граничат с публицистикой (П. Гирихиди), другие — с художественной прозой (В. Манидаки).
При работе над настоящим сборником использован приём, апробированный в предыдущем сборнике («Пишу своими словами… Письма греков из ГУЛАГа»): текст каждого воспоминания предваряется краткой биографией автора. Кроме того, все тексты снабжены информацией о времени их написания и источниках.
Свидетелей репрессий эпохи сталинизма остаётся всё меньше. Но и того, что собрано в данном сборнике, вполне достаточно для представления картины произошедшего с греками СССР, разделившими судьбу всего советского народа.
Рассказанное очевидцами — это их личная история. Для их детей — это семейная история. Для внуков и правнуков — это история греческого народа и всей страны.
Буду рад, если эта книга кому-то поможет обрести свою пропавшую историю — персональную, семейную, родовую. Так исполнится завет отца истории Геродота, ратовавшего за то, «чтобы прошедшие события с течением времени не пришли в забвение».
Очередная книга из серии «Греческий мартиролог» создавалась при постоянной поддержке многих людей.
Во-первых, хочу поблагодарить всех, кто прислал мне материал для книги, кто, несмотря на душевные переживания, уделил мне много часов и рассказал о пережитом. Благодарю и тех, кто, откликнувшись на мою просьбу, прислал свои рассказы, которые, в конечном счёте, не попавшие в сборник. Прошу их за это меня простить. Мне пришлось выбирать из очень большого массива текстов.
Во-вторых, искреннюю признательность выражаю руководству Ассоциации греческих общественных объединений России, ОАО «Донской табак» за финансовую поддержку проекта и помощь в издании книги.
В-третьих, сердечно благодарю своих многочисленных друзей и помощников, оказывавших мне содействие в процессе сбора материала и при работе над книгой.
Родился в греческом селе Комар в 1910 г. Закончил сельскую школу-семилетку, а потом — Ногайский сельхозтехникум. В 1932-33 гг. Ю. Аврамов работал агрономом в южных районах Украины. В 1940 г. окончил Одесский мединститут. Работал врачом в г. Каховка.
24 июня 1941 г. Ю. Аврамов мобилизован на фронт. Служил военврачом в 116-й стрелковой дивизии. Находясь в окружении, осенью 1941 года попал в плен в районе села Ортица Полтавской области. Совершив побег из плена, работал хирургом в Херсонской области. По возвращении красной армии 8 месяцев находился на «государственной проверке» в Шатурском проверочно-фильтрационном лагере № 0324 НКВД СССР.
Отец Ю. Аврамова умер от голода в 1933 г. В 1941 г. фашисты расстреляли первую жену Ю. Аврамова, еврейку по национальности вместе с их первенцем-младенцем.
С 1946 по 1961 гг. Ю. Аврамов работал районным хирургом и главврачом в Херсонской области, а с 1961 г. по 1976 г. — заведующим отделением и городским хирургом в г. Артёмовск (Донецкая область).
Умер в 1992 году.
О голоде
В 1983-84 годах украинцы в США и Канаде говорили о 50-летии ужасного голода на Украине, унесшего миллионы людей. В наших газетах ничего об этом не писали.
Это было на моей памяти, я тогда был студентом техникума, мне было 23 года. Кое-что видел, понимал, ощущал на себе.
Не помню, чтоб о голоде писалось в газетах тех дней, чтоб кто-то поднимал голос в помощь голодающим. Бытует мысль, удобная для подонков: «Сталин об этом не знал». Голодала Украина, Кубань, и Сталин об этом не ведал? Сказка для простаков.
Я расскажу то, что видел, что рассказали мне в моей семье, что сам слышал.
Коллективизация на Украине
Проходила она под лозунгом «Сплошная коллективизация» и тут уж методов не выбирали, не останавливались и перед применением насилия, оружия. В немилости был не только крепкий хозяин (кулак), но и середняк, как мой отец.
Помню рассказ брата отца, дяди — Харлампия Юрьевича.
Противились коллективизации женщины, с граблями и вилами пошли они на скотный двор отбирать своих коров, лошадей, ибо на дворах этих порой не было никакого ухода.
Такой бунт случился в Петропавловке на Днепропетровщине, и член партии Харлампий Аврамов, 24-летний парень, с пистолетом в кармане поехал усмирять женщин — «бабий бунт». И не один он ездил.
Помню рассказ Павла Петровича Завального, завхоза в больнице г. Борислава. Рассказали ему очевидцы тех событий. Назаренко Гавриил Афанасьевич, вполне человек порядочный, собирал крестьян, не согласившихся ступить в колхоз, уговаривал, упрашивал. А если крестьянин не соглашался, вытягивал рывком наган, выводил во двор, инсценировал расстрел. А потом дверь открывалась и, еле переставляя ноги, плелся весь мокрый крестьянин, бледный как стена, уже «согласный».
И если этот порядочный Назаренко только инсценировал расстрел, то можно представить, как поступали в таком случае подонки, случайно примкнувшие к партии или желающие реабилитироваться карьеристы или службисты.
Жуткое впечатление осталось у меня от наблюдений случаев раскулачивания — ликвидация кулачества как класс.
Разве среди них были только эксплуататоры, разве часть из них своё зажиточное состояние не добилась своим упорным, неустанным трудом?
Помню Белозерова, нашего соседа. Труженик, вечно не высыпался, во время уборки старался не приезжать с поля. Он тоже попал в кулаки.
Друг брата Коли, Костя, сын зажиточного крестьянина, работал в кузне колхоза, как и мой отец, оказался прекрасным мастером (его мой отец хвалил). Но пришёл указ: «Раскулачить!» И Костя, как и другие крепкие хозяева, в лютые морозы с женщинами, малыми детьми, стариками отбыл на подводе на станцию Просяную, за 30 километров.
Сколько их погибло в дороге, на станциях, в лесах на Севере или в Сибири! Попал мужик в сталинскую мясорубку, под корень срезали его.
Зло родит только зло, добро зло не родит.
У нас не было амбара. А что крестьянин без амбара, без хранилища хлеба? Угол в доме инее устраивал отца. Купил он старый амбар, достал где-то доски, нанял мастеров. Вырос в дворе амбар. Год пользовались, был богатый урожай пшеницы, засыпали его. Сосной там пахло, и я с Колей не раз там спал. Как-то слышу ночью разговор. Мама говорит, что Юру надо лечить, продать бы амбар…
Но тут пришла коллективизация, сразу приглянулся наш новый амбар, разобрали, ничего не выстроили, растаскали, но нас радости лишили.
Студент Аврамов
Я хотел учиться. В Днепропетровский землеустроительный техникум меня не приняли. На знания не обращали внимания. У меня не было характеристики комсомола.
Подался я в Володарское (за Волновахой) в совхоз-техникум. Сюда неохотно поступали, а рабочие совхозу нужны (кто от батраков откажется?). Работали бесплатно.
Закончил я этот техникум уже в г. Ногайске Запорожской области, куда был переведён, когда совхоз-техникум ликвидировали. В Ногайске мы также оставались рабочими. Было это в марте 1933 года. Мы голодали.
Получали по 200 граммов хлеба, баланду из сорго. Я был отечный от недоедания. Совхоз в Ногайске был семеноводческим. Сажали на семена капусту, лук, морковь и буряки. Этим ученики питались, но не всегда.
Однажды Леша Козырь подговорил нас пойти ночью в поле вырвать на грядках посаженные овощи и наесться. Нас поймал сторож и отвел к директору. Директор-армянинпосмотрел на нас (нас было четверо), увидел, какой у нас жалкий вид, изголодавшиеся юнцы, и отпустил.
Может, от того времени осталась привычка есть сырую капусту, лук, морковь… Совхоз выращивал ещё бахчевые культуры.
В техникуме, вспоминаю, учил нас украинскому языку высокий, с рыжей козлиной бородкой, чуть сутулый учитель Новицкий. (Отец, говорили, был попом). Националист ли, не знаю, но Украину очень любил. Я же не очень силен был в украинском, а он хотел, чтобы я тоже им владел, любил, как он, украинскую литературу. Он часто говорил мне: «Аврамов, намагайтэсь!». Давал мне задания, переводы с русского на украинский, был рад моим успехам. Может, от него у меня остались любовь к Украине, её языку, литературе. С удовольствием читаю и теперь на украинском языке журналы, тома Шевченко, Леси Украинки, других писателей, неплохо владею украинским языком.
И теперь не безразлична мне судьба Украины.
Учился у нас Грибанов, сын врача из Ногайска. Учился легко, хорошо одевался, был всегда сыт. И завуч Фёдоров часто говорил мне: «Ты, Юра, старайся перегнать Грибанова». Обо мне говорил с математиком Сорокиным: «У тебя устно всё хорошо, а вот задачи…». Явно мне симпатизировал.
Перед выпуском из техникума послали меня на двухнедельную практику в колхоз под Ногайском. Жил у бригадира в отдельной холодной комнатушке. Был слаб, вечно голоден. Я обратил внимание на бидон, стоящий в этой комнатушке. Привлек моё внимание, очевидно, запахом. Там было подсолнечное масло. Мог накрасть бригадир. И я подкреплялся, прикладываясь к этому бидону.
Как я студентом голодал, я уже писал, но кто из студентов в те годы не голодал, могут мне возразить. И я не очень стану спорить.
Как я закончил техникум, не помню, но этот бидон запомнил, голод заставил и не такое делать.
Выпуск был приурочен к весне 1933 года. Попал я в совхоз Новоукраинского района (ныне — Кировоградская область) как раз на посевную.
Директор Геращенко (фамилия до сих пор мне ненавистна) встретил меня почти враждебно: «Ты агроном? Мени агрономы не потрибни. Мэни потрибни робитныкы. Завтра визьмэш йитык та й пидэш за сиялкою».
А тогда тракторных сеялок не было, не было той доски, на которой можно стоять и чистить сошники. Приходилось по паханой земле пешком бегать целый день, а сил-тоне было. Три дня побегал, чувствую, не выдержу. Пошёл без копейки денег, голодный, на станцию и на товарняке поехал на Донбасс, домой. Я домой не писал, и мне ничего не сообщали. Я не знал обстановки дома. Решил я поехать к тёте, устроиться, чтобы не голодать. Был солнечный день 1933 года, я прибыл на Ясиноватую.
Прошло 52 года, а я ясно помню трупы на станции. Из сёл в города двинули крестьяне, в ожидании поездов, обессиленные от голодания, лежали вокруг вокзала, тут же [лежали] и умершие. Санитарные машины увозили и живых, и мёртвых.
Попал на рынок в поисках хлеба, но всё было очень дорого. Ещё в колхозе и совхозе я захаживал к крестьянам, видел, что они варили, видел, как умирали семьями, но не думал тогда, что это типично для всей Украины. Варили везде лебеду.
Пошёл к тёте Фане, маминой сестре. Меня накормили. От Дуси получили письмо, она писала, что от голода умер отец, такая участь ждёт и других. Я очень плакал. Отцу было всего 58 лет.
Дед Борис Давыдович накричал на меня: «Сколько можно плакать! Москва слезам не верит. Устраивайся на работу!»
Я был готов устроиться на любую работу, но нигде не принимали. Поехал в Мариуполь. По дороге, в вагоне один русский, видимо, недавно приехавший на Украину, наблюдая из окна за умершими и видя моё сострадание, сказал с презрением:
— Не хотят работать в колхозе, вот и дохнут от голода!
От обиды я не мог резко ему ответить, еле выдушил:
— Видно, недавно вы тут. Украинец за землю горло перегрызет. Он работать умеет.
Легче всего объяснить это преступление ленью целого народа, такого трудолюбивого во все периоды своей истории.
В Мариуполе спал на вокзале. Стоило только улечься, как милиционер: «Гражданин, здесь спать не разрешается!» Промучился две ночи, и вернулся в Ясиноватую, а оттуда — в Сталино, в облплодовощ. Направили меня на Ящиковский рудник в ОРС около Сватово (Луганская область), овощеводом. Всё было дорого, денег не было, наверное, ничего не ел все дни, пока устраивался.
Агроном
Ящиковский ОРС представлял собой участок земли, на котором трудились рабочие. Жили они (ютились) тут же, в камышовой хате.
Я работал на огороде, питался в столовой для рабочих, хотя была столовая для ИТР. Старший огородник Рябоконь (из Винницкой области) как-то спросил меня:
— Аврамов, ты не жид? Ходыш боком, як жид.
— Нет, я не жид. Я ж не вижу, как я хожу.
Я у этого Рябоконя попросил: нельзя ли мне в столовой ИТР питаться?
— Ни, не можно. Цэ трэба же заслужиты.
Этот не симпатичный мне Рябоконь говорил красивой, певучей «украинськой мовой», не такой, как говорят у нас на Донбассе.
Питался я лучше, не голодал, но и сытым не был. Коморник, с которым я познакомился, иногда оставлял меня вместо себя отпускать продукты. В коморе был маргарин в кусках, и я мог его понемногу глотать. Жил в помещении с тонкими, из камыша, стенами, без удобств. Было мне лучше, чем до сих пор, но мысль: «А как там, дома?» — не давала мне покоя. Я рвался домой.
Уехал я в Сталино, там меня направили в ОРС кирпичного завода имени Ворошилова (село Владимировка, Ольгинский район). Это по дороге Сталино-Жданов, около Волновахи.
Тут я работал более самостоятельно, как агроном. Директор ОРСа Корабельников в сельском хозяйстве не очень смыслил, но мне козни не строил, прислушивался к моему мнению, оказался неплохим человеком. В селе была пекарня. Пекарем был грек, Юрий Иванович (фамилии его не помню). Ходил голым по пояс, усы длинные, чёрные, как у турка. Если зайду к нему, пекарь отломит кусок хлеба, подкормит.
Решил я всё же домой съездить. Корабельников помог мне, дал мне три буханки хлеба. Сложил буханки в мешок, и поехал.
Дома
Ехал я домой на товарняке, на платформах везли уголь, руду. Остановится поезд на станции, я лягу, прячусь. Доехал до станции Роя, и пошёл 40 километров пешком.
Село мое, Комарь, лежит в пойме реки Мокрые Ялы. Чтобы попасть в село, надо спуститься с возвышенности. Путь мой лежал мимо кладбища. На кладбище, вижу я, изможденные люди (от голода) пытаются спустить в яму труп, но сил не хватает. Я им помог. Пошёл к своему дому. Вот он, во дворе — кухня. Вошёл на кухню. На плите казан, в нём варилась лебеда. Зашёл в дом. Там мать, Тонечка. Мать с тонкой шеей, лицо в пуху, у Тони шея и голова, как стебелек, качается. Я поздоровался, а они такие безразличные, никаких чувств. Извлек хлеб, а они накинулись. Стою и плачу. Представляю себе, как они переносили и голод, и холод, ведь соломы и у них не было.
Коли и Дани дома не было. Николай ходил вниз по течению реки, у моста бурно росла трава, и он там искал съедобные коренья. Там он не раз терял сознание, его привозили незнакомые люди. И на этот раз привезли его без сознания. Вечером пришёл Давид. 12-летний мальчишка, худой, синий от холода, искал на дне реки ракушки. Мать их варила, была хоть какая еда. Дуся рассказала мне об отце, о том, как они жили без меня.
Тут я хочу низко поклониться моей сестре Дусе, поклониться в знак моей признательности за её мужество, её усилия [по] спасению семьи. Ведь вся тяжесть в эти годы легла на её плечи. Если б не она, погибли б все.
Дуся рассказала мне, что отец долго в колхоз не записывался. Работал он на мельнице машинистом, наверное, говорил прямо, что думал о порядках на селе. Его причислили к подкулачникам. Пришли, забрали корову, корыто, четыре мешка картофеля, выкопанного на своём огороде. Хлеба у них не было. Не хочешь в колхоз, умирай с голода. Наказать решили. Пришли молодые парни, среди них и близкий сосед, Сеня Даниил. У [него] один брат в белой армии был офицером, другой — у Махно, а он [сам] вершил правосудие. Вот эти молодчики схватили мешки с картофелем. Даня плакал, не давал, уцепился за мешки; они стали отрывать его ручонки от мешка, Даня укусил одного за палец. Картофель увезли, оставили без еды, хунвейбины. Чем они питались? Кое-как дотянули до мая месяца. Тонечка вспомнила: «Принесли кусок дохлятинки. Как я ни была голодна, но это я есть не могла». Родные приносили моей семье кусок хлеба. Не часто он им попадал.
Дуся рассказывала ещё об отце. В совхозе «Перебужье» (по соседству) приняли отца слесарем-инструментальщиком. В сельсовете узнали, приказали отца рассчитать. Так насильно толкали на голодную смерть. Не гуманнее б было этих крестьян просто расстрелять, чем подвергать их длительной голодной смерти.
Погибли и мои соседи, половина семьи Манол Йорка (Эммануил Юра), жена и муж, две девочки, дед Манол-папу умерли от голода. Остались три парня. (Один воевал, остался живым, два брата не были мобилизованы, но, как постольники, без подготовки пошли воевать, погибли на реке Молочной. Постольники, необученные, призваны в армию после прихода наших, ходили в постолах, в своей одежде).
Я не мог долго задерживаться в селе, иначе б и я умер от голода. Даня мог двигаться, и я забрал его с собой. Дуся работала секретарём в ветлечебнице, у врача Лысова, [она] была менее истощённой.
Хочу с благодарностью вспомнить добрые дела, участие врача Лысова. Он, зная от Дуси о бедственном положении семьи, походатайствовал в сельсовете, чтобы сняли позорную кличку с отца (уже посмертно), помогли голодающим. Лысов был членом сельсовета. Вернули корову, наши ожили. Корову вернули, как рассказал мне Давид, в мае по записке, ещё папа был жив, когда эту записку дали. Корову нашу вернули, но отец её уже не увидел. Не верил, что вернут. Корову запрягали, она была худая, молока почти не давала, но с ней вернулась в дом надежда на спасение.
Я мысленно сравниваю жизнь крестьян 1928 года и печальную картину голода и разрушения 1933 года. С какой дьявольской целью это всё делалось? А если заглянуть глубже, то становится ясно: Сталину хотелось сломать волю украинского крестьянства, осмелившегося ослушаться вождя, его указа о сплошной коллективизации за несколько лет! Он хотел преподать кровавый урок всем оставшимся в живых украинцам, дабы впредь беспрекословно подчинялись его воле. С такой жестокостью проводилась индустриализация и коллективизация в стране.
Комарь был в окружении немецких колоний. Украинские и греческие селяне, помню я, восхищались умением немцев вести своё хозяйство. Их колонии были образцом порядка. Всех удивляло, что немцы строили свои дома в глубине двора, не так, как греки. Перед домом цветник, сад. Постройки каменные, жилые и хозяйственные с высокой крышей, где хранилось сено. Колодезь у немцев [был] в сараях. Вход в хозяйственные постройки — со двора и из жилых помещений. В любую погоду всё в сохранности, всюду легко добраться. Относились к ним дружески, не раз они нас, греков, выручали. Много знакомых среди немцев и украинцев было у моего отца (он работал на мельнице и в кузне). Мне запомнились братья Антон и Давид Зайдлицы, они к нам приезжали, мы – к ним. В детскую память врезались картины посещений Антона. Его жена угощала нас белыми пряниками. Я таких сейчас не встречал.
В 1933-34 годах не был я в немецких колониях. Но не могли немцы в колхозе плохо работать, снимать низкие урожаи. Это ложь, что был в эти годы неурожай. Всегда возмущаюсь, когда слышу о неурожае в 1933 году. Я агроном, выезжал определять урожайность: гектар давал 12-15 ц[ентнеров], что по тем временам неплохо. Это неуклюжая попытка обелить Сталина, его зверства.
Голодали ли колонисты, не знаю, может, голодали. Но меньше, твёрдо знаю.
Было это в болгарском селе. Может, колхоз не выполнил первой заповеди «Хлеб — государству!» и потому не оставили ни в колхозе, ни у колхозников ни зерна, ни овощей, как в других сёлах. Свидетелем и даже участником тех событий был я сам. [Жители] голодали, а в селе искали «хлебные излишки» (всё под метелку).
Еще студентом техникума я вместе с Алешей Козырем, Кинашом, Мамаем, Жовтобрюхом искал хлеб в болгарском селе Бановка Периславского района на берегу Азовского моря. И что мы увидели? В избе увидели изможденную голодом женщину, а её муж в национальном болгарском костюме лежал уже… на столе. Умер от голода. Щупом протыкали землю, ничего не нашли. Умирающий от голода зерно не прячет. Закончили «борьбу за хлеб» тем, что нашли в сарае буряк, чем-то его разрезали и накинулись на эти куски: сами голодали.
Помню, в областной газете была статья за подписью немца, жителя одной из немецких колоний. Суть статьи: пришла из Германии продуктовая посылка (чёрная весть дошла туда). Этому немцу из колонии прислали. В статье он писал, что живёт хорошо, обеспечен всем, что посылка — фашистская провокация, и он возвращает посылку. Ему не нужны подачки фашистов. Вот такой спектакль был тогда разыгран.
Таких жутких картин, такого массового организованного голода, истребления голодом украинских и кубанских крестьян, мир не знал, но помнит об этом.
Голод 1921 года, когда действительно был неурожай, — только бледная тень генерального голода 1933 года.
Крестьяне терпели голод и холод. Основное топливо — солома, а она была в колхозе. Её крестьянам не давали. Не дай бог взять охапку соломы – социалистической собственности. Такое можно ли забыть? Могу ли простить смерть отца – потомственного пролетария? Дуся просила забрать корыто (ведь у нас всё забрали), чтоб похоронить отца. В сельсовете ехидно спросили: «А что, только отец умер? А что, мать ещё не умерла?».
Дуся просила, чтобы вернули хотя бы корыто, в котором хоронили людей. Досок-то не было.
Услышанное о голоде
Это было позже. Мы отдыхали у теток в Абхазии. В очереди за молоком слышу за собой разговор на украинском языке. Я заинтересовался. Оказывается, они с Кубани. Женщина рассказывала, что кубанские казаки, которые жили в предгорье, занимались земледелием, выращиванием пшеницы, и осенью возили пшеницу в станицы под Кубанью. [Там они] пшеницу меняли на картофель. И так повторялось из года в год. В 1933 году не приезжали, не привозили пшеницы. А в 1934 году снова приехали, обмен возобновился. Эта женщина спрашивает у приезжих казаков:
— А дэ ж Соколэнко Пэтро? Здоровый був козак.
— Нэма, помэр з голоду.
— А дэ Ковалэнко?
— И вин помэр з голоду…
В Артёмовске в 1980-е годы в очереди за мясом старая женщина рассказала, как её братья, одному 18, другому 22 года, в 1933 году умерли от голода. В колхозе выращивали шелковичные коконы, сажали тутовые деревья. Вот и рвали листья, терли руками, ели листья, как скот.
Греческие села близ станции Роя (город Курахово) — Улаклы, Богатырь, Комарь, Константинополь, Большой Янисоль, представляли тогда печальное зрелище, будто орда Батыева прошла, и вытоптала всё на пути. Дома умерших пустовали, разваливались (семьи целиком вымерли в голод). В сёлах уже не было сплошных строений, дома стали далеко друг от друга, села представляли собой шахматную доску, можно было свободно пройти из края в край села, нигде не было ни заборов, ни оград. Дворы стали распахивать и засевать.
Когда пишу о голоде, вспоминаю рассказ отца о его разговоре с белым офицером из армии, бежавшей в Крым. Отец ковал лошадь офицера, бывшего учителя из Старого Керменчика. Офицер понял, что отец сочувствует красным, и сказал:
— Я знаю, вы всё ждёте красных, но вы вспомните нас, когда семеро голодных, будете гнаться за одной крысой.
А ведь в 1933 году ели людское мясо, убивали своих детей. Около 8 миллионов жертв. Где же были современные Львы Толстые, Короленко? Кто организовывал фонд помощи голодающим?
Нигде нет об этом ни слова.
г. Артёмовск (Донецкая область, Украина). 1985 г.
Источник: архив Г. Аврамидиса (г. Афины, Греция).
От составителя.
Бывая в Афинах, я неоднократно встречался с сыном Ю. Аврамова, Г. Аврамидисом. Вот что он добавил к портрету отца: «Папа отличался начитанностью, критическим, аналитическим складом ума. Ненавидел тоталитаризм, как в его гитлеровской, так и в сталинской ипостаси. Находясь на должностях, предполагающих почти обязательное членство в партии, он всякий раз отказывался от предложений о вступлении в КПСС».
Как написал Г. Аврамидис в другом своём письме: «Воспоминания написаны в 1985 году, до эпохи гласности, когда тема голодомора в СССР не поднималась и, стало быть, не предназначались для публикации, т. е. лишены какого бы то ни было политического заказа».
Родился в Одессе в 1928 году. Гражданин Греции.
Отец Г. Захариаса, Дионисиос, арестован 21 декабря 1937 года в ходе греческой операции НКВД. 31 января 1938 года Комиссией НКВД СССР и Прокурора Союза ССР приговорён к расстрелу. Расстрелян 2 апреля 1938 г. в Одессе.
В августе 1938 года Г. Захариас вместе с матерью выслан в Грецию. В Афинах окончил техническую школу «Прометей». Работал механиком на заводе «Биг» в Афинах, в порту Пирей.
С 1938 г. Г. Захариас вёл поиски отца.
Ныне — пенсионер. Живёт в г. Афины.
Я проживал с родителями в Одессе, по улице Карла Маркса (прежнее название — улица Екатерины), дом 6, квартира 25. Мой отец Дионисиос Захариас в 1937 году был заключен в тюрьму.
Отец родился в Константинополе в 1897 году. Вся его семья, в которой было пять детей, жила там. У них была кондитерская фабрика. В связи с неблагоприятной для греков Константинополя ситуацией вся семья по приглашению и вызову старшего брата отца, Константина, переехала в Одессу. Таким образом, все поселились в Одессе. Здесь мой отец совместно с дядей Константином открыли кондитерский магазин.
Через некоторое время остальные братья отца, вместе с бабушкой и дедушкой уехали в Грецию. Ещё его один брат, Дмитрий, стал моряком и посещал Одессу на кораблях, на которых работал. Во время одного из этих путешествий он пришёл к нам, и устроил мои крестины. Меня крестили у нас дома четыре человека: дядя Дмитрий, друг моего отца по фамилии Апостолидис, который мне подарил старую шпагу, и две русские женщины, соседки по дому.
К этому времени Константин женился на полячке. У них был сын, которого тоже звали Георгий. Он был старше меня на 4-5 лет. В 1932-1933 г. Константин со своей семья уехал в Грецию, и, таким образом, кондитерская досталась моему отцу.
В 1933 году два праздника — Пасха и 1 Мая — совпали. Отец украсил витрину кондитерской по случаю этих двух праздников. Он разделил витрину на три части. В первой части он выставил бюст Ленина, сделанный из тридцати килограммов сахара. Вторую часть он украсил разными куколками, ягнятами и другими животными, связанными с Пасхой. В третьей части отец поместил Одесский маяк, сделанный из карамели. Внутри маяка горели огоньки.
Еще на этой витрине было большое судно из карамели со всеми деталями — лодки, мачты, трубы, иллюминаторы, огоньки, флаги. На мачту отец прикрепил греческий флаг. Обо всём об этом – со всеми подробностями — в местной газете была опубликована хорошая статья, вырезку из которой много лет хранила моя мать.
Отец работал в кондитерской до 1934 года, когда был вынужден её закрыть из-за высоких налогов. После этого он работал кондитером в кондитерском отделении пищепромкомбината Одессы. В течение года его повысили в должности, сначала он стал мастером, а потом — начальником кондитерского отделения. Чтобы успевать на работе, он приносил документы домой и работал с ними. Он записывал сырье, которое нужно было на следующий день на комбинате.
21 декабря 1937 года около 2.30 — 3 часа ночи к нам домой пришли милиционеры и провели обыск. Я проснулся и плакал. Милиционеры говорили мне: «Иди спать, тебе завтра в школу, а твой отец вернется домой через 2-3 часа».
Милиционеры провели обыск, забрали все документы отца, его записки, копирку от заказов. И ещё они забрали греческую газету «Акрополис», которую принесли нам во время одного из своих визитов в Одессу дядя Дмитрий и его друг, тоже моряк. Ещё милиционеры забрали мою шпагу — подарок крестного отца.
Моя мать — Анастасия родилась в 1907 году в Москве или в пригороде Москвы, точно я не знаю. Отцом её был Лаврухин Антон, а мать — Лаврухина Амфилон, урождённая Сергеева. Её родной и двоюродный братья были убиты во время революции и гражданской войны в 1917-1918 годах.
Мои родители поженились в 1927 году. Отец мог бы получить российское гражданство, но не захотел. Тогда мать вступила в греческое гражданство.
Дней за 15 до ареста отца к нам домой пришли три человека. Они говорили по-гречески. Они сказали отцу, что их прислал его брат Дмитрий, моряк, так как он сам не смог приехать. Отец спросил, имеет ли спрос в Греции профессия кондитера. И ещё он сказал, что когда приедет в Грецию, то сможет досыта поесть оливок. Этот разговор переводился на русский мне и моей матери самим отцом, так как мы с мамой не знали ни одного греческого слова.
Спустя 15 дней после ареста отца, моя мать отнесла ему в тюрьму одежду. Но отца она не видела. Через несколько дней, когда она опять понесла одежду, её не приняли, и матери сказали ей, что отца отправили в сибирские лагеря.
С тех пор мы ничего о нём не знаем. Следы моего отца исчезли. Через пять месяцев после этого нас вынудили уехать из Одессы и приехать в чужую страну, в Грецию. Мать до этого ездила в Москву, добилась приёма у Председателя Союза Калинина. Она умоляла его не высылать её, что ей нечего делать в Греции, что она — русская, никого не знает там, не знает языка… «Как я могу поехать в чужую страну с маленьким ребёнком?» — спрашивала она. В ответ ей сказали: «Ты похудела, поезжай в Грецию поешь оливок».
16 августа 1938 года меня с матерью выдворили в Грецию. Тогда ходили слухи, что арестованных в 1937 году отправили в Грецию. Так подумала и моя мать. Мы забрали 16 коробок с кондитерскими инструментами моего отца и уехали в Грецию.
Эти инструменты спасли нас во время немецкой оккупации и голода в Греции в 1941 году.
Следующие годы были очень трудными. Мы оказались чужими в чужой стране, не зная языка, с одной только надеждой, что может быть, кто-то, в какой-то момент принесёт сообщение, какую-то новость о нашем отце.
г. Афины (Греция). 2007 г.
Источник: письмо Г. Захариаса.
От составителя.
На следующее утро после показа по греческому телеканалу «Мега» документального фильма, снятого по книге «Греческая операция» в моей квартире раздался телефонный звонок. Звонил Г. Захариас. Он сообщил мне, что, посмотрев фильм, позвонил на телеканал, попросил номер моего телефона, чтобы узнать о судьбе своего отца.
Так в 2007 году Георгиос узнал, что его отец Дионисиос Захариас не был отправлен в лагерь, а расстрелян вскоре после ареста в Одессе.
Вскоре после этого я прибыл в Афины для презентации новой книги из серии «Греческий мартиролог». На этой встрече мы и познакомились, уже лично. С тех пор Г. Захариас и его дочь Анастасия – неизменные гости на всех моих встречах в Афинах.
Родился в 1919 году в станице Смоленская Северского района Краснодарского края.
М. Исакиди арестован в один день с отцом в декабре 1937 года. Особым совещанием при НКВД СССР и Прокуроре Союза ССР М. Исакиди приговорён к 10 годам ИТЛ. Отец Комиссией НКВД СССР и Прокурора Союза ССР от 18 января 1938 г. приговорён к расстрелу. (Приговор приведён в исполнение в феврале 1938 г.).
Наказание М. Исакиди отбывал в Ивдельлаге, Воркутлаге и лагерях Казахстана. Освободился в декабре 1947 г.
После освобождения поехал в пос. Чилик (Алма-Атинская область, Казахстан), куда в 1942 г. была депортирована его мать.
Умер в 2008 году в Алма-Ате.
Нас с отцом арестовали 28 декабря 1937 года. Мы с ним попали в камеру № 500, в подвале. День сидим, второй, кормёжки нет.
В январе тридцать восьмого года папу вызвали. Мы договорились не отрываться друг от друга. Его вызвали, и я пошёл за ним. Но я замешкался и оказался не за ним, а последним в строю. Я встал с краю. Было нас человек двести, может, поменьше. Всех первых посадили в полуторку, плотно, плечом к плечу. Толкали, сажали ещё и ещё, забивали машину полностью.
После допроса кинули меня в подвал, и я долетел до самого низу. Смотрю, что-то блестит. А что непонятно. Сел я на крайнюю ступень. Оказалось, блестела вода, дно подвала было залито.
Вдруг слышу чей-то стон: «Мария, я умираю». «Значит, в подвале есть люди, — думаю, — просто я никого не вижу. Значит, я здесь не один»…
Ивдельлаг
Это недалеко от Серова. Раньше он назывался Надеждинск, там был завод одной богатой помещицы. Её звали Надежда, в честь неё назвали город. Потом переименовали в Серов.
Там же, на реке Чусовой, есть посёлок Першино. Возле него мы работали на лесоповале и сплаве. Нас предупредили, что кедровый орех валить нельзя. Тогда мы что делали? Валили на кедровый орех другое дерево. Потом ещё одно. И тогда «вынуждены» были срезать сам кедр. Орехи поджаривали над костром на палке. Они маслянистые, жирные.
Работа опасная. Если кто-то замешкался, и на него падало дерево, то хоронить был нечего. Разносило на куски.
На этих работах уголовников не было. Только трудяги. Многие были заброшены сюда с КВЖД: специалисты, ремонтники, линейщики, паровозники и др. В 1937 году всех их пересажали и направили в разные лагеря. Они занимались подвозом леса к берегам. Каждому давали лошадь, которая тащила бревно. Бригада состоялаиз 5-6 человек и один конвоир – на лошади. Но и так никто не пытался никуда бежать, бесполезное дело…
Уральские реки имеют большие уклоны. По ним шёл сплав леса. Дорог ни автомобильных, ни железных не было. Но, кроме больших уклонов, реки имеют много препятствий. Например, скалы. У них возникает затор. В таких местах мы перебрасывали лес, разбирали заторы. На берегу накопилось миллионы кубометров леса. Его подвозили на лошадях. Всё это надо было сплавить.
В Першино я как раз попал на такой затор. Три дня бились с ним, но удавалось протолкнуть только по одному бревну.
И вот я попал в такой переплет. Из затора вырвалось два бревна, и я упал в воду. Я успел подумать: если всё это пойдёт на меня, то от Исакиди не останется ничего… Там тысячи тонн. В руках у меня был багор. Упираюсь им и пытаюсь плыть к берегу. Брёвна разные – пихта, сосна, орех, и береза, и ель. Каждое дерево имеет свой удельный вес. Мне попалась лиственница и одна сосна, два толстых бревна. Плыву, держась за них, они туда-сюда качаются. Сосна легче и она ушла от меня раньше. Плыву на лиственнице. Тут конвоиры заметались, думали, что я убегаю. Меня несёт к кустам, я не управляю бревном… Вдруг, чувствую, что моё бревно пошло быстрее, значит, позади выросло давление, значит, идёт основная масса затора. Поток внёс меня в поворот, понесло к прибрежным кустам… И тут бревно ушло из-под меня. Я ухватился за ветки, дальше мне плыть не на чем, корабль мой уплыл.
Охранники с собаками всё это время бежали по берегу. Они меня вытащили на берег. Горели костры, я весь, конечно мокрый. Пошёл к костру сушиться, апрель месяц был….
…В лагере нас было триста человек. Барак один, система — вагонка. Со мной в одном бараке, на одной линии, на втором этаже, жил повар. У нас была своя дистанция, дальше работали другие.
Кормили в лагере плохо. Иногда давали рыбу. Вот берут мешок воблы, бросают её в кипящий котёл. Котёл человек на пятьсот. Варили её до тех пор, пока она вся не разварится. Чешую не чистили. Это когда сидишь над кружкой пива её можно не торопясь счистить. А тут — она разваривалась, ели с шелухой и костями. И все же это рыба, не сравнить с мороженой картошкой.
Суп пили прямо из тарелок. Хлеб мокрый, липкий, в руки взять было нельзя. Посуда металлическая не разрешалась. Нашлись специалисты, горчешники. Они из глины делали нам посуду, обжигали. Если она прожженная, сделанная по всем правилам, то держится. А если нет, то раз можно налить, два раза, а потом несешь, а твоя миска разваливается.
Еду выдавали по талонам. Вроде трамвайных билетов. Талоны выдавали вечером, вместе с хлебом. Если норму выполнил — жёлтый талон. Были ещё полосатые, белые. На белый давали полчерпака, на жёлтый — добавку, лишний черпак супа…
У меня был жестяной котелок. Не помню, откуда его приобрел. Он был мой собственный. Не у всех такой имелся. Одалживали котелки, но условием, что ты оставишь мне в нём супа. С котелком не расставались. Он всегда был со мной, привязанным.
Как-то три дня нам не давали никакой еду. Мы были голодные. Наша бригада жила в одной избушке. Рядом был поворот, вода на сумасшедшей скорости входила в него, и многие брёвна выбрасывало на берег. Мы их опять сбрасывали в воду.
Оголодали сильно. Те, кто понимал в грибах, собирали их и ели. Нам говорят: «Потерпите, скоро придёт баржа с продуктами». Где-то там она вышла. Везли картошку мороженую, морковку сушёную, свеклу, тоже, конечно, сушённую.
Этот катер, или баржа, до нас не дошёл несколько километров. Дело в том, что во время сплава тонет много брёвен. Лиственница тонет и может лежать на дне много лет. Но время от времени тонкий конец, не комлевой, который лежит на дне, всплывает. Вот одна лиственница вдруг поднялась из воды и ударила баржу, она раскололась пополам. Теперь наши продукты плывут по реке.
Нам сообщили об этом. Мол, ловите свои продукты. А как ловить? У нас были плоты. Вышли на них на реку, а она широкая, метров 15-20… Видим: плывут мешки. Те, которые полегче, плывут посредине реки, которые потяжелее – ближе к берегу. Мы баграми ловим. Не все удаётся поймать. Ловили, которые поближе. В основном ловили муку, она тяжёлая, мешки плыли медленно. Поймаешь мешок, вытащишь на берег, развяжешь, разложишь… Оказывается, только сантиметра на два мука мокрая, а дальше — сухая…
На работу уходил в шесть часов, после построения. Днём не кормили, перерывов не было. Работали, пока не выполнишь норму. На лесоповале бригадиром у нас был умный человек. Бывало, у тебя лишних полкуба, а у меня не хватает. Он всех уравнивал, чтобы мы получали по 600 граммов. Благодаря ему, никто не получал триста граммов. На лесоповале давали нам женщин-помощниц. Они собирали сучки и корни. Собирали и сжигали… Норма была восемь кустов сжечь. А когда попадали в валежник, то никто норму не выполнял.
Возвращались в лагерь до наступления темноты. Конвоиры боялись, что в темноте убежим.
Никаких зачётов не было. Выходные давали 1 мая, 7 ноября и на день конституции. За три дня до праздников многих политических сажали в карцер. Боялись, что будет демонстрация, протест, саботаж. Нас заранее сажали в карцер.
Посылку из дому получил один раз и то урки отобрали.
Я работал с личным врачом Молотова.
В Першино был такой случай. Рядом со мной в бараке лежал повар, Илья. Я говорю ему:
— У меня скоро день рождения.
Илья спрашивает:
— У тебя есть котелок? Давай его сюда. Я налью тебе хорошего супа.
Уже дали отбой. Я пошёл в столовую. Часовой поймал меня и отвёл в карцер. А весной там всё заливало. Тротуарами служили плоты — плавучие мостки. Они держались на воде как поплавки. Нижние нары в карцере были залиты. Когда я туда попал, там было уже пять зеков. Темно. Лёг на верхние нары. Едва уснул, как почувствовал,что кто-то тянет меня за волосы. Никого не вижу. Сосед спит. Через некоторое время опять: кто-то дёргает меня за волосы…
Оказалось мыши. Спасаясь от воды, они тоже поднялись на верхние нары. Из волос они строили себе гнезда. Было страшно: темень, вода, какие-то черти… В это время я дрогнул…
В карцер принесли хлеб. Мокрый. Я положил его на решётку, чтобы он просох. Лежу, смотрю на свои триста граммов. Вдруг подлетает какая-то птица. Клюнула, но не смогла поднять. Пайка упала вниз, в воду…
В КВЧ нас не допускали. Даже на общие работы в лагере — штукатурами, малярами не брали политических.
Некоторые не могли ходить, шли к «лепиле», он давал освобождение.
Шла война. Переписки не было, потому что не было транспорта, который увозил бы и привозил бы почту. Но некоторые письма прорывались. Сообщали, что идёт война. Я знал, что Краснодарский край оккупирован. Через кого-то мы узнавали, как дела на фронте. Я не знал, что жену мою и детей эвакуировали. Я поинтересовался, куда девались мои родные. Я думал, что моя мама осталась дома. Написал в Краснодарский НКВД. Пришёл коротенький ответ. Мне ответили, что во время эвакуации жителей налетели немецкие самолёты и разбомбили эшелон. Мне посоветовали обратиться в город Бугуруслан. Я написал в Бугуруслан, оттуда пришёл ответ: таких нет. Думаю, может, они остались дома, а, может, погибли при бомбёжке. Что с мамой не знаю. Ну, про отца знал: его расстреляли.
Я писал Калинину, в ЦК…
Когда в Талицах строили плотину, нам дали задание бурить скалу буром диаметром в 30 миллиметров. Один держит бур, другой сверху бьёт. 9 килограммов кувалда. Скважины готовили под аммонал. Бурили на глубину до 9 метров. Норма за смену была один метр. Я с напарником выполнял два метра. Но обманули и не дали дополнительную пайку.
Потом нас разогнали по другим лагерям.
Воркутлаг
На Воркуте, в 6-м лагере, когда работал в шахте, ел лосятину и оленину. Подманивали оленей тем, что вешали ветки. Убивали и отправляли на фронт. В шахте работал киркой. Денег не давали никогда.
Только заслуженные воры имели клички. «Неавторитетные» их обслуживали.
По арматурной книжке давали меченую одежду, чтобы её не продавали: рукава разного цвета, полотенце, бельё, полспины — белая. Вольнонаёмные всё равно нашли выход: покупали и перекрашивали.
Рядом находился женский лагерь. Мы ходили туда, проползали под проволокой. Там были ясли.
Донское
Когда меня везли в Актюбинск, то все трое суток охранники пьянствовали. Все наши пайки продали.
Привезли. В бараках места не было. Всех нас, 28 прибывших, уложили у параши. Ужин уже прошёл. Дали нам по три картошки сырые. У кого были зубы, те грызли. Завтрака тоже не было: «На вас не завезли продуктов», — сказали нам.
В Актюбинске механики не требовались. На четвёртый день меня посадили на машину и повезли в сторону Хромтау. Два охранника, я и водитель. Кругом степь. Я дрогнул: везут на расстрел. Но почему так далеко?!
Привезли в лагерь «Донской». Здесь добывали хромитовую руду, затем отправляли в Мурманск, а дальше — куда-то морем. Экскаваторов не было. Только паровые машины. Не продуктивно. Вручную лопатами по 15-20 килограммов грузили на железнодорожные платформы. Потом поступили американские экскаваторы, трёхкубовые. На отвалах рельсы передвигали вручную. Пока не появились путепередвигатели.
Я по блату устроился работать в сапожную мастерскую. С фронта привозили целыми машинами одежду и обувь, снятую с убитых. Задача моя состояла в том, чтобы спаровать её: подбирать пары из левых и правых ботинок. Неважно, какого производства и вида.
Был уже сорок третий год. Моя мать в сорок втором была выслана в Казахстан, в Чиликский табаксовхоз. Её я сам разыскал, она приехала в Донское.
Начальником политотдела был Евграфов. Я познакомился с ним. (Я как-то подобрал ему сапоги). Он и помог получить мне допуск на свидание. Дали нам два часа на свидание. Утром мать уехала.
Чилик
К моменту освобождения меня уже перевели из Донского снова в Актюбинск. Освобождение пришлось как раз на денежную реформу. Собрал денег на дорогу, а они тут же и обесценились.
Уехал с чемоданчиком: кое-что из белья, китель итальянского офицера и брюки…
Приехал к матери в Чилик. В Чиликском табаксовхозе казашки делали по 5-6 шнуров. Моя мать — Марфа Алексеевна Исакиди — в первый же день сделала 25. Все удивлялись. Приехал сам секретарь райкома. Он начал хронометрировать. Мать в тот день сделала 34 шнура. Её выдвинули на Героя соцтруда. Секретарь:
— Не пойдёт! Кормите каждый день, давайте молоко, чай, но не героя! Муж и сын сидят по 58-й, сама из депортированных…
Из Чилика несколько греческих семей убежали в Иссык. Брат устроился в артель Фрунзе. Шили фуфайки, обувь, перчатки, вязали носки. Ели лебеду, крапиву. Соль получали, вываривая старые шкуры. Получали экстракт. Две ложки добавляли в траву и она становилась вкуснее…
г. Алма-Ата (Казахстан). 28 июня 2006 г.
Источник: архив И. Джуха.
От составителя.
Михаил Кузьмич Исакиди жил с супругой в многоквартирном доме в Алма-Ате. Готовясь к встрече, я поинтересовался в телефонном разговоре у Надежды Андреевны, не будет ли слишком тяжело Михаилу Кузьмичу вспоминать годы заключения. «Он с большим удовольствием расскажет вам всё, что вас интересует. Он уже пять лет лишён общения» — ответила она.
Наша беседа длилась более двух часов. Михаил Кузьмич и впрямь с удовольствием отвечал на все вопросы. Рассказывал он в системе. Я не раз прерывал его, уточнял детали, но это ничуть не сбивало его: он строго соблюдал хронологию и не упускал деталей.
Родился в 1924 году в г. Евпатория (Крым).
Окончил 7 классов средней школы. В 1944 году П. Ангелиди направлен в военизированный стройбат. Службу проходил на восстановлении Севастополя, на строительстве Рыбинской ГЭС (Ярославская область). В мае 1945 года П. Ангелиди направлен в Кемеровскую область, куда в 1944 году были депортированы его родственники.
Умер в 2010 г. в пос. Витязево Анапского района Краснодарского края.
В 1920 году мой отец приехал из города Салоники в Россию, поселился в Евпатории. В 1922 году он женился на моей матери Триандафилиди Александре Панаётовне, гречанке, уроженке Евпатории. У них в браке родилось трое детей: я, 1924 года рождения, Софья (1926 г.) и Анфиса (1928 г.).
Отец открыл кафе, где сам работал поваром. Но в 1933 году отца арестовали, якобы за приобретения ворованного мяса и осудили сроком на три года. Срок он отбывал на Соловках, переписка с родственниками запрещалась. После освобождения отец вернулся в Евпаторию и работал рыбаком в рыбколхозе «Альбатрос». В марте 1941 года мой отец умер.
Я в школе учился хорошо, из класса в класс переходил без экзаменов. В 1938 году я написал заявление о принятии меня в комсомол т. к. был первым учеником в классе, но заявление откладывали несколько раз.
В 1941 году я окончил 7 классов и тогда моя учительница Валентина Афиногеновна сказала, что меня не приняли в комсомол потому, что отец мой былиностранно-подданный.
Летом 1941 года началась моя трудовая деятельность в рыбколхозе «Альбатрос», а в октябре немецкие войска захватили наш город. Я продолжал работать рыбаком. Начальником рыбного завода был немец, а замом назначили местного грека Афанасиади. Его оставили в городе руководить партизанским отрядом. Мы, конечно, не знали об этом, думали, что он предатель. Мы сами расклеивали листовки, где призывали людей не бояться фашистов и бороться за свою Родину. Начались аресты. Меня, моего двоюродного брата Спасопуло Елевтерия Константиновича и моего дядю Спасопуло Константина забрали фашисты.
Арестованных было очень много. От расстрела меня и ещё многих рыбаков спас Афанасиади. Остальных арестованных вывезли за город, где были выкопаны противотанковые рвы. Туда немцы согнали всех арестованных и расстреляли. Среди расстрелянных были мой дядя и мой брат.
Моя бесстрашная мама ночью шла искать своё дитя и племянника. Она переворачивала мёртвые тела, искала своих, но никого не нашла. А когда уже возвращалась, услышала стон, она перевернула несколько тел и обнаружила раненого мужчину. Мама привела его домой и спрятала на чердаке. Он ей сказал, что он из партизанского отряда. Мама его лечила, и когда ему стала немного легче, он попросил её, чтобы она сообщила о нём по адресу. Через два дня, ночью пришли трое мужчин и его забрали. Они очень были благодарны маме, и оставили ей продуктов. Она рисковала своей жизнью и жизнью своих двух дочерей.
В дни оккупации фашисты отправляли молодых женщин и девушек на работу в Германию, такая участь ждала мою тётю Софию. Мама пошла к доктору и умоляла его, чтобы он дал справку, якобы у её дочери туберкулёз. Врач был по национальности немец, житель Евпатории. Он выдал справку, благодаря которой тётя София избежала отправки в Германию. А 13 апреля 1944 года Евпатория была освобождена от немецких захватчиков.
В июне 1944 года Евпаторийский военкомат отправил меня на разборку развалин в Севастополь. После двухнедельных работ в Севастополе, нас погрузили в эшелон, закрыли вагоны на затворы, поставили часовых и отправили на строительство гидроэлектростанции в г. Рыбинск. Нас поселили в бараках, которые были обнесены проволокой и охраняли вооружёнными солдатами. В мае 1945 года нас, 52 человека под охраной, отправили в Кемеровскую область для соединения с семьями.
Дело в том, что в начале июля 1944 года начались массовые выселения греков, армян и болгар. Моя мама с двумя детьми, моими сестрами, тоже была выслана в город Сталинск (ныне — г. Новокузнецк) Кемеровской области. До Новокузнецка они ехали больше двух месяцев. По дороге очень много людей умирало от голода и от болезней. Моя мама с сестрами доехала благополучно, благодаря партизану, которого она спасла. За несколько дней до выселения, он предупредил её, что будут высылать. Мама сумела продать вещи, мебель, и на вырученные деньги купила тёплую одежду и продукты. Она знала, что их ссылают в Сибирь.
В сентябре 1944 года эшелон прибыл в Сталинск. Людей разместили в палатках. Кругом была тайга, пилили лес, т. к. нужно было срочно строить бараки, зима была не за горами, а морозы в тех краях доходили до 50 градусов. Сколотили бараки, семья от семьи отделялись простынкой или мешковиной.
Мои родственники были на учёте спецпоселения с ежемесячной отметкой в спецкомендатуре. Одна сестра работала на строительстве шахты «Зыряновская», другая — телефонисткой, а мама варила обеды в столовой. В 1946 году София вышла замуж, после чего своих детей тоже отмечала в спецкомендатуре.
пос. Витязево (Анапский район, Краснодарский край). 2009 г.
Источник: письмо В. Лисиной (пос. Витязево).
От составителя.
После получения письма от племянницы П. Ангелиди я несколько раз звонил в Витязево. Уточнял некоторые детали из рассказанного Павлом Константиновичем. Но возникали всё новые и новые вопросы. «Редкий» трудфронт попался П. Ангелиди, хотелось узнать о нём больше. Все накопившиеся вопросы я оставлял до личной встречи.
В ноябре 2010 года я побывал в Витязево, но встретиться с Павлом Константиновичем уже не суждено было. Весной того года П. Ангелиди умер.
Урождённая Симвулиди. Родилась в 1940 году в г. Батуми.
В 1949 была Ф. Болоцкая выслана с родителями в Казахстан. В 1956 году возвратились в Батуми. После окончания средней школы в 1959 г. Ф. Болоцкая уехала в Казахстан к старшей сестре. В 1960 г. поступила в Чимкентское медицинское училище. После его окончания (в 1963 году) более 30 лет работала фармацевтом.
Ф. Болоцкая — один из основателей греческого общества г. Чимкент.
Умерла 26 декабря 2009 года в Чимкенте.
Мы проживали в городе Батуми по улице Буденного, 7. За несколько дней до высылки прошёл слух по городу, что греков будут высылать.
Мы были высланы 13 июня 1949 года в 5 часов утра. Мы — это моя мать, Симвулиди Кириаки Никифоровна, 1905 года рождения, советская гражданка, Симвулиди Ставро Георгиевич, дядя 1885 года рождения, греческого подданства и я, Симвулиди Фрося Панайотовна, дочь Кириаки, 1940 года рождения.
Об отце я ничего не знаю. Знаю, что разница в возрасте у родителей была 16 лет. Маме 16 лет было, а папе 32 года, когда они поженились в Батуми. Отец бежал то ли с Турции то — ли с Греции очень давно. Никто мне никогда не рассказывал об отце, а когда он умер, мне было шесть лет.
Мы проживали втроём: мама, её деверь, (брат моего отца) и я. Когда к нам постучали в дверь под утро, мы, естественно, спали, но стук был такой сильный, что мы все подскочили. Нам на сборы отвели два часа.
Мне было девять лет, но я хорошо помню, как моя мама от такого заявления — собирайтесь! — упала в обморок. Я побежала взять чайник с водой и облить её, но чайник был пустой, и я хотела выбежать во двор к крану, чтобы набрать воды. Затем мама очнулась, и, не поняв ничего, стала заворачивать постель и одежду в узлы. Больше ничего не разрешили с собой брать. Оставили в квартире все вещи: кровати, шифоньер, приёмник и всю кухонную утварь. Неизвестность во всём уничтожила нас.
Всех греков, проживающих в нашем дворе, погрузили на бортовую машину с вещами и ревом детей и взрослых отвезли на товарную станцию, где стоял товарный эшелон в тупике. В каждый вагон заполняли людей семьями, а потом закрыли двери. Сидели в темноте, очень высоко было маленькое окошко и было непонятно, день или ночь. В течение 15 суток мы ехали, не зная, где проезжали — ни маршрута, ни людей не видели. Военная охрана с нами не разговаривали. В углу вагона стояла большая выварка (кастрюля), в которую ходили по нужде.
По пути следования были несколько случаев смерти от духоты, грязи и голода. Все думали, что нас везут в Грецию, и никто не смел возмущаться или переспросить, всё равно ответа не последовало бы. Тогда, когда заехали на территорию Казахстана, охрана открывала двери, и мы выходили на воздух. В это время были случаи побегов, бежали в основном мужчины, но потом слышали, что их отлавливали.
По степи разгуливали верблюды, ишаки. По прибытию в Казахстан, в совхоз Пахта-Арал, всех рассадили по машинам, сделав перекличку (старались объединить семьи родственников) и отвезли в отделение «Коминтерн». Ежедневно по вечерам после 21 часа, представители комендатуры проверяли, все ли на местах.
У местного жителя для нас забрали глиняный сарай, в котором мы прожили зиму 1949 года — очень холодную. Выдали нам топчан деревянный. Мы с мамой спали вдвоём, а дядя — старый, больной, спал на полу, на сене, и тряпками укрывались. Местное население помогало нам. Дядя умер зимой 1951 года от болезни.
Чтобы пойти на рынок за 5 километров в центр совхоза, мама брала разрешение в спецкомендатуре с указанием времени возвращения. Хотели ей присвоить номер, как в концлагере, но она отказалась. Но тогда она должна была ходить на поле собирать хлопок. Она же была больная — сердечница, и тогда я, в 9 лет, вместо неё ходила на поле утром, собирала хлопок до обеда, а после обеда шла в школу уставшая, голодная, спала на парте. Учитель ещё поругивал: «Что, спать пришла в школу!?». Это было в 4 классе.
Потом пошли болезни: малярия, брюшной тиф, дизентерия. Много детей умерло. Вода арычная, грязная, мы её отстаивали, фильтровали и только потом пили. Но, несмотря на всё это, я всё-таки дважды переболела тифом, паратифом брюшной полости. Долго болела, пропустила целый учебный год. Не была принята в пионеры, а затем и в комсомол, из-за чего страдала и была унижена перед одноклассниками.
Проводились новогодние ёлки, художественная самодеятельность была, но после смерти Сталина в 1953 году стало как-то мягче. Ходили в кино, в клуб, пели песни, переписывались с родственниками в Грузии. А вот почему лишь мы с мамой попали в ссылку, до сих пор не знаю.
В 1956 году в июле нас освободили, и мы с мамой уехали опять в Батуми. Конечно, — ни дома, ни вещей, ни мебели – ничего не было возвращено, да мы и не требовали. Мы так были запуганы, что только родные места и море, запах магнолий и стройные кипарисы вернули нам желание жить. Но семь лет, выброшенные из жизни и отложившие отпечаток в душе, не давали забыть годы под спецкомендатурой. (Фотографии тех лет не сохранились, я была там подстрижена наголо (лысая) после перенесённого тифа. Я уничтожила их, было больно смотреть).
Прожив в Пахта-Арале три года, в 1952 году мы с мамой перешли жить в другую землянку. В ней были две маленькие комнатки, и я решила в возрасте 12 лет построить ещё один маленький сарайчик из оставшегося самана (глина + солома). Рядом строили соседи домик, а из половинок я слепила сарайчик. Но как я была расстроена, когда после первого же дождя он развалился! Никто мне не подсказал, что это же временно, но так я хотела хоть чем-то помочь маме…
Затем, когда греки-выселенцы нашли воду и построили водокачку, я носила по два ведра на коромысле и продавала соседям по две копейки за ведро.
Так прожили мы ещё некоторое время, где-то добывая себе на пропитание. Мама на дому шила мешки-фартуки для сбора хлопка. А за ржаным хлебом шли занимать очередь в магазин в 5 часов утра, а привозили хлеб в 9-10 часов. Но мы рады были этому, лишь бы хватило, что не зря простаивали часами.
Вот и всё что я помню из моего детства.
г. Чимкент (Казахстан). 2006 г. (с дополнениями 2009 г.)
Источник: письма Ф. Болоцкой.
Благодарю М. Болоцкую за содействие.
От составителя.
Прочитав одно из первых писем Фроскиты Панайотовны, я обратил в нём внимание на фамилию Симвулиди. Перед этим мне довелось работать в архивах Одессы. Активную помощь в работе оказал мне Василий Симвулиди, председатель областной общины греков. Я написал Фроските Панайотовне о моём знакомом одессите. Она в свою очередь попросила меня уточнить некоторые детали его биографии. «Возможно, Василий мне очень близкий родственник, я буду рада. Я теперь совсем здесь одна с дочерями» — писала она.
Так оно и оказалось: Василий Симвулиди и Фроскита Болоцкая — троюродные брат и сестра, искавшие друг друга свыше пятидесяти лет.
К сожалению, Фроскита Панайотовна не увидела эту книгу. Она умерла в декабре 2009 г.
Родилась в 1932 году в г. Туапсе Краснодарского края. В ходе греческой операции НКВД 1937 году были арестованы отец, дедушка и два дяди. Отец и дедушка и дядя расстреляны в 1938 г. Ещё один дядя отправлен на Колыму.
В 1942 году оставшиеся члены семьи Кочелиди депортированы в Актюбинскую область (железнодорожная станция Эмба).
С. Кочелиди закончила Актюбинский педагогический институт. Работала учителем русского языка и литературы.
Ныне — пенсионер. Живёт в г. Туапсе.
Маленькие истории из моей жизни после гибели папы Кочелиди Кириака Элефтеровича и дедушек Кочелиди Элефтера Семёновича, Евстафиади Василия Константиновича. Всех их расстреляли в 1938 году.
Дядю, Евстафиади Георгия Васильевича взяли в Ростове, он там учился. Отсидел 10 лет в лагере на Колыме. Вернулся спустя сорок с лишним лет.
В школе. 1-й класс
Учительница, Инна Кимовна:
— Национальность?
— Гречанка.
— Где работает папа? — Молчание. — Где работает твой папа? – повысила голос Инна Кимовна. Молчание. Наконец, Инна Кимовна тихо спросила: — Где твой папа, в тюрьме, да?
— Да.
1942 год. 12 апреля. Ссылка
Пересадка на станции Поворино. Солнышко греет. Мы играем в «классики». На станции много эшелонов (теплушки) с умирающими ленинградцами. Санитары несут носилки с умершими. С нами мальчик, ленинградец. Я бегу к маме: «Мама, с нами мальчик, он очень худой, он не может играть, он хочет кушать!» Мама дала сухарей и фундуков. Он сразу их съел. Я побежала ещё к маме. Она дала ещё и сказала: «Ему нельзя много кушать сейчас. Завтра ещё дадим».
В киоске дают кипяток. Длинная очередь (греки). Издалека идут женщины. В очереди: «Ленинградцы идут». Все расступились.
В Сталинграде пересадка. Уже пассажирские вагоны. Немцы бомбят. Выезжаем. Уже едем по Казахстану. Остановка на полустанке. Сошли несколько человек, и я тоже с дядей Колей. Выпили свежей воды из лужи.
1-2 мая. Приехали, побежали занимать место в зале ожидания. Поместились. 2 мая в Эмбе родились две девочки — Оля Калкитаниди и Ника Саввиди.
Через некоторое время повезли в совхоз — Конезавод № 52. Мне здесь повезло – я видела Буденного Семёна Михайловича на белом коне. Мама работает в лазарете с больными лошадьми. Я взяла в ладони овес и дала коню. Он стал есть, и я вместе с ним. Был голод.
Про маму
Моя мама Кочелиди (девичья фамилия Евстафиади) Эфтихия Васильевна поехала в Майкоп с передачей своему мужу Кириаку Элефтеровичу, моему отцу, и двум дедушкам: Кочелиди Элефтеру Семёновичу и Евстафиади Василию Константиновичу, а также брату, Евстафиади Георгию Васильевичу (кому попадётся). Сказали, что они в Майкопе.
Женщины с узелками, свертками, сумками стояли на обочине дороги. Было очень много женщин. Вдруг раздались крики: «Едут!» «Везут!» Машины шли в сторону гор. Мама увидела папу. Он стоял в переполненном кузове машины в последнем ряду с краю. Осуждённые стояли с опущенными головами. Мама крикнула: «Киряко!» Он поднял голову и увидел маму. Конвоир ударил его прикладом по голове. Папа сжал свою руку. Он держался за борт кузова.
Про дядю
Георгий Васильевич Евстафиади, герой моего детства, юности, а потом, когда он вернулся, мы крепко дружили. Никогда Георгий Васильевич не отзывался плохо о советской власти, о Сталине, не осуждал их. Однажды я его спросила: «Дядя Юра, что же ты не вставил ни одного золотого зуба?» (У него не было нескольких зубов). «Ненавижу золото», — ответил он. Умер 82-х лет в Туапсе, похоронен на Каменном карьере рядом со своими братьями, сестрой и сыном.
Когда его везли в лагерь, на Колыму, он с этапа прислал записку. Вот её содержание.
«Добрый день, дорогая мамаша. Я спешу сообщить, что я жив, здоров. Я нахожусь в пути. Вот так. Везут, не знаю куда. В общем, думаем, на Колыму, на безопасность! Только не знаю, кто из вас дома. Я знаю, что нет папы и зятя Кириака, и старика. Я боюсь, что Костя и Андрей тоже арестованы. Тогда будет очень плохо. Мама, много не думай, это скоро всё пройдёт».
В школе
В 1951 году вся страна подписывалась за мир. Директор школы сказал: «Грекам не подписываться! Нельзя!» «Можно! Нужно!», — закричали (робко) мы. «Греческое отродье», — обозвал он нас. Учителя заступились, и мы подписались.
КГБ
На станции Эмба никаких учебных заведений не было. Ни в какой институт выехать нельзя было без особого разрешения. Меня приняли на работу в школусекретарём-деловодом. Директор попросил меня красиво переписать и отнести в КГБ тарифные списки учителей школы. Там приняли бумаги и спросили:
— Кто Вам разрешил взять их в руки?
— Директор, — ответила я.
Когда вернулась из КГБ, рассказала всё директору. Он освободил меня от должности секретаря и назначил лаборантом. Это был счастливый момент в моей жизни…
Я писала письма Молотову, Ворошилову и Сталину. В этих письмах я просила разрешения выехать на учёбу. В неделю или один раз в десять дней приезжал комендант. На этот раз приехал из областного КГБ. Вызвал меня.
— Вы писали письмо тов. Сталину И. В.? — Он сделал суровое лицо, побагровел.
— Да, я писала.
Не успела я испугаться, вошла молодая медсестра и говорит:
— Она учиться хочет, поэтому и написала.
— Больше не пишите, — сказал комендант, смягчившись.
И я выбежала. Повезло.
В институте
Город Кзыл-Орда. Экзамены сданы. Конкурс пройден, и мы оказались студентами гидромелиоративного техникума. Мы – это 15 человек: греки, трое русских (дети врагов народа), два турка, два молдаванина, немцы и ещё другие. На следующий год я снова поступала в институт на факультет русского языка и литературы. Мне посоветовали: «Поступайте на математический факультет. На литературный и исторический вам нельзя».
Первый экзамен по математике проходил в актовом зале. Вдруг дверь открылась, входит зав. учебной частью Елубаев.
— Вам (он указал пальцем на меня) кто разрешил сдавать экзамен?
— Вы.
— Где зачётная книжка?
— У вас.
— Пойдём со мной.
Два экзамена сдала успешно, к 3-му не допустили, пришлось уезжать домой. Меня сопровождал охранник, молодой казах, хороший парень, всё смотрел на мои косы, ничего не говорил.
В 1954 году я поступила в Актюбинский пединститут, декан сказала гордо: «У нас многонациональный институт, даже одна гречанка есть».
В Актюбинске я встретила ректора Кзыл-Ординского института Жаманбаева. Он сказал: «Не обижайтесь на меня, время было такое». Мы стали друзьями. Он преподавал у нас историю КПСС. У меня было много друзей казахов.
г. Туапсе (Краснодарский край). 2008 г.
Источник: письмо С. Кочелиди.